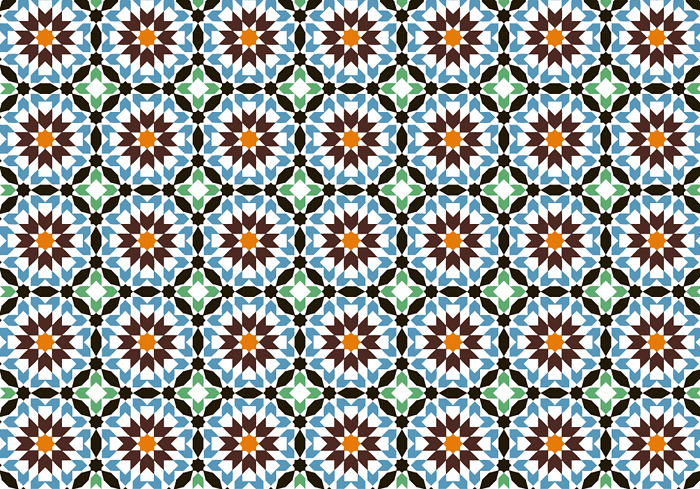Больница св. Ксении петербургской.
Гаснет свет, коридор мгновенно превращается в слепую кишку, слабенький дневной свет не пробивается через многие слои краски на стеклах малой операционной, скукоживается и вяло сочится через щели.
— Иииииииии! — раздается женский испуганный визг сначала справа, потом слева, потом визжать начинает кушетка в коленкоровом переплете, вторая кушетка напротив и все пять или шесть сидящих на ней женщин с голубыми ногами.
Визжит темный коридор, последовательно распахиваются двери в палаты, в растворе появляются многие всклокоченные женские головы, плечи, ноги в кожаных тапочках.
— Есть тут кто? – спрашивает одна из голов, — отзовись?
Худая Лариса перестает дрожать и странно низким голосом отзывается, говорит:
— Всем сохранять спокойствие. Ничего не случилось. Подумаешь, авария на подстанции. Тихо, тихо. Тихо, тихо.
Полная Лариса поднимается с кушетки, протяжно вздыхает:
— В этом районе часто гаснет. А что, кругом заводы… Промышленные предприятия…
— Не совсем понятно, милочка, что вы имеете в виду, — возражает Зоя Федоровна, — промышленные предприятия окрест не функционируют последние двадцать лет.
— Да уж тридцать, — поправляет ее медицинская сестра Кирыванна, — или больше. Сколько там лет прошло с восемьдесят пятого-то года?
— Тридцать, — отвечает Зоя Федоровна. Она набирает чей-то номер на мобильном телефоне. В темноте небольшой дисплей ярко высвечивает ее губы, над ними темноватый пушок, как у Нины.
— Вот, тридцать. Как раз недавно читала. В газете. Бесплатная такая, в ящик ложут. Народная трибуна, что ли. Так вот, один рубль 1985 года строго приравнен к ста рублям 2015. И не спорьте мне! Вот и получается!
— Что? – волнуясь, уточняет худая Лариса.
— А то! Что жить мы стали хуже – в сто раз!
— Кирыванна, — Зоя Федоровна отводит руку с трубкой в сторону, — Кирыванна, вы себя слышите вообще? Мы не стали жить хуже в то раз! Это просто рубль подешевел!
— Рубль, он на то и называется рубль, чтоб всегда. А жить стали хуже. В сто раз.
— Леночка, — говорит Зоя Федоровна трубке, — Леночка, доброе утро. Ты проснулась? Температуру измерила? Молодец. Да, я выходила с собакой. Да, да. Да. Да.
— Ой, уж сразу и собака, — морщится Кирыванна, — нашли собаку. Прыщ на ножках! Как там порода-то называется, говоришь?
— Чихуа-хуа, — поясняет Зоя Федоровна.
— Теперь вы, стало быть, чихуистка?
Зоя Федоровна грозит пальцем. На пальце блестит кольцо белого металла, возможно – серебряное. Или это всего лишь белый след на пальце
Кирыванна смеется. Распахивает дверь с табличкой «Бельевая». Становится значительно светлее.
С первого этажа доносятся женские возбужденные голоса. Выделяется начальственный, хорошего постава, призывающий к тишине. Тишина, однако, не наступает. Напротив, уровень шума растет.
Худая Лариса садится на корточки, трет руками сухие глаза. Неизвестного назначения пластиковая панель, прикрепленная к стене на некотором расстоянии от пола, приходится как раз на уровне узкой Ларисиной головы. Темные волосы ее электризуются, прилипают к панели, тонкими подвижными лучами обрамляют затылок. Около правого уха нацарапано чем-то острым: «Пацаны ваще котята».
Из «настенных» надписей самую грозную я видела не так давно. Домик-развалюху позапрошлого века украсили предупреждением: «Вадюха сука не отдашь деньги — вырву глаз», восклицательных знаков не было, что почему-то указывало на серьезность ситуации.
— Спущусь, — Зоя Федоровна прислушивается к событиям снизу, — посмотрю, что там такое. Если откровенно, Кирыванна, я сегодня хотела освободиться пораньше. У мамы день рождения, она назвала к себе приятельниц, а на мне – кулинарная составляющая. Составляющие… Вчера ничего не успела, только картофель с яйцами отварила. Еще селедки купить. Да, селедки.
— Куда вашей, я извиняюсь, мамаше селедку, — возмущается Кирыванна, — протертый слизистый суп! Пятый диетический стол. По Певзнеру.
Зоя Федоровна машет рукой, и кольцо на пальце точно оказывается белой полосой.
— А-у-у, — якобы шутливо обращается она к первому этажу, — что там у вас происходи-и-ит?.. Отзовите-е-е-сь!..
Ее шаги по лестнице, ее голос раздается уже внизу, ничего не разобрать, но.
— Явно что-то происходит, — замечает юная Корделия. – Может, заминировали здание, и примчала МЧС? У нас такое в колледже было, в прошлом году. Типа, я хочу сказать, никаких мин, один чувак просто прикалывался. Доприкалывался до детской комнаты милиции. Красавчик! Прикиньте, мы без трусов, а кругом заминировали!
— Не думаю, — серьезно отвечает худая Лариса от стены, — тогда бы первым делом организовали эвакуацию. Это же целая программа эвакуационных мероприятий. У нас один мужчина есть, волонтер, так он капитан, в службе спасения. Так он…
— Кхм-кхм, — кашляет полная Лариса, — я извиняюсь, конечно. Но где здесь уборная?
— Прямо, прямо, потом налево, налево, — подробно объясняет Кирыванна на правах профессионала, — и упретесь.
— И упретесь, — нервно хихикает юная Корделия, — точное слово… Мы тут недавно в филармонию ходили. Пригнали весь класс, и попробуй что-нибудь скажи! Так в середине первого действия все в сортире собрались. Любители музыки, ха!
— Известна история о приезде Державина в Царскосельский лицей, когда он первым делом спросил: «а где тут у вас, братцы, сортир»? — зачем-то говорю я. — После этого лицеисты, отпрашиваясь в туалет, говорили «к Державину».
— Державин, это как бы кто, — спрашивает полная Лариса.
— Старик Державин нас заметил, и в гроб сходя, благословил, — комментирует юная Корделия. Тапочки ее проскальзывают, и она плюхается на пол. Кирыванна вздрагивает.
— Где ж Зоя Федоровна, — говорит она, — прямо не поймешь, что. Время-то теряем. Время – деньги.
Время – не деньги. Время – это ты сама, твои волосы, изменяющие цвет, твои зубы с выкрошенными пломбами, твои синяки под глазами, прорастающие морщинами. Твои ногти, нуждающиеся в маникюре, твои брови, потерявшие форму, твой вес, превышающий кем-то установленную норму на четыре килограмма. Что, уже на пять?
У меня плохие отношения со временем. Знаю, чем буду заниматься в своем персональном аду – считать минуты, складывать их в часы, внутри абсолютной пустоты.
— Ну что, поблядушечки мои, — гаркает мне в ухо невесть откуда выскочившая страшная медсестра, — марш в палату, болезные! Перерывчик объявляется небольшой. Ма-а-аленький такой, хорошенький перерывчик для моих уебушечек!
Вспоминаю ее имя — Доротея Марковна. Стоит, розовая и неожиданно помолодевшая. Руки в боки, очень прямая, крашеные черные волосы, нарисованные черным брови, ярко-красная помада. Верхняя губа не имеет четких очертаний, необходимой тугой излучины, и эту излучину Доротея Марковна начертала карандашом.
Смотрю прямо в центр ее активно работающего рта, вдруг теряю возможность слышать хоть что-нибудь, и хоть что-нибудь соображать.
Нашло на меня внезапно оцепенение. Вам знакомо, что такое оцепенение? Расскажу про свой вариант, например. Может быть, мы сравним симптомы. Мое оцепенение начинается резко, вероломно. Оно не предупреждает о своем наступлении, не вывешивает флажков, не запускает сигнальных ракет, не дает возможности как-то приготовиться. Допустим, быстро доделать срочную работу. Или инициировать важный разговор. Или дослушать Доротею Марковну и понять, почему надо вернуться в палату. Ничего подобного. Оцепенение накрывает меня внезапно, буквально минуту назад ты редактировал таблицу в Excel, а сейчас сидишь и думаешь, пишется ли «не» с глаголами отдельно. В голове нет ни одной мысли, даже самые простые исчезают бесследно. Остаются базовые инстинкты, и они руководят. Допустим, съесть чего-нибудь горячего. Выпить сладкого чаю. Или просто поспать. И ты спишь пару минут.
Прихожу в себя на железной кровати, напротив юная Корделия волнуется и протягивает мне граненый больничный стакан:
— Вам плохо? Возьмите вот… Типа, выпейте.
Стакан оказывается в моих руках, он мокрый. Пью, неловко приподнявшись на локте, утираю губы ладонью.
— А вас давление, наверное, низкое? У вас гемоглобин, наверное, восемьдесят? – полная Лариса присаживается рядом со мной на панцирную сетку, сетка провисает и почти царапает пол, — когда у меня был гемоглобин восемьдесят, я еле таскалась, и как раз свекровь лежала в больнице, потому что у нее был гемоглобин – девяносто. И она велела всем вокруг нее скакать, готовить телячью печень и давить из гранатов сок. А я взбунтовалась и говорю: у вас гемоглобин девяносто, и вы лежите, а у меня – восемьдесят, и я на ногах…
— Недаром я хотела быть врачом, — задумчиво произносит худая Лариса, — прям вот всегда хотела, мечтала даже. Помню, с мамкой лежали в больнице, у нее почки, и я каждый день думала, почему же я не стала акушеркой? Людям помогать. Плохо ли?
— Почками занимаются нефрологи, — рассеянно поправляет ее эффектная азиатка в тренировочных штанах, — не акушеры.
За окном серое утро сменяется серым днем, низкое небо роняет дождь пополам со снегом, голубей на жестяном карнизе уже трое, колонной маршируют друг за другом, разворачиваются через левое плечо и маршируют в обратную сторону. Подвижные маленькие головы, повернуты в нашу сторону, будто бы у голубей особое задание: подслушать разговор женщин без трусов в большой сдвоенной палате.
— Вы не волнуйтесь так, — юная Корделия делает рывки руками, элементы производственной гимнастики, — там какая-то демонстрация внизу. Марш протеста. Вырубили электричество и требуют прекратить делать аборты.
Какая-то женщина за спиной громко ахает. Сажусь на кровати, поворачиваю голову — худая Лариса.
— Всем занять свои места, мандавошечки, — на пороге Доротея Марковна, все так же нарядно разрумяненная, в руках – огнетушитель. – По коечкам, по коечкам, мои поросяточки! В коридорчик головенки не высовываем, девоньки мои. До особого распоряжения.
— А что, а что?
— А как же мы?
— Так операций не будет?
— А когда же? – сыпется вопросов со всех сторон.
— Так, — медицинская сестра гремит, огнетушитель в ее руках отплясывает, — сидеть на местах и молчать в тряпочку!
— Доротея Марковна, — в палате появляется пожилая дама в белоснежном халате, седые волосы собраны в пучок идеальной гладкости, на лацкане прищепкой бейдж «Главный врач», — я попрошу вас спуститься. Кажется, среди демонстрантов – ваша дочь.
— Юля?! – странно высвистывает Доротея Марковна, — Юля?
— Вам лучше знать, как ее зовут, — дергает плечом Главный врач.
Три голубя разворачиваются к стеклу анфас одновременно, и далее все происходит очень быстро. Так принято снимать боевики – глаз не успевает следить за событиями в кадре, мозг не способен анализировать происходящее, слева взрывается склад оружия, справа горит тюрьма, заключенные в черных робах бесчинствуют с начальником конвоя, пронзая его висок ножкой стула, и все это под тревожную музыку стиля панк-рок.
Главного врача оттирают в сторону двое молодых мужчин, один из них отнимает из рук Доротеи Марковны огнетушитель. Под его кожаной курткой полосатится тельняшка.
Следом вваливается человек десять женщин, мгновенно замостив собою всевозможные проходы, женщины держат в руках яркие пластмассовые штуковины, которые оказываются водяными пистолетами. По законам жанра не успеваю подумать: какой это бред, детские игрушки! а женщины нацеливают бананово-лимонные дула непосредственно на меня и выстреливают холодной водой. Я визжу, визжит юная Корделия, обе Ларисы, азиатка в тренировочных штанах. Где-то это звучало совсем недавно, женский визг: «ИИИИИИИИ!»
Мужчина в тельняшке проделывает что-то с огнетушителем, огнетушитель извергает вверх и в стороны сероватую жидкую пену с резким запахом. Полная Лариса горбится на своей кровати и вдруг взрыдывает в голос. Худая Лариса приседает на корточки и защищает голову скрещенными локтями.
Скорее всего, я закрываю глаза, чуть ли не рукой, мокрые волосы липнут к лицу, мокрая футболка липнет к телу, становится холодно, кожа превращается в гусиную, покрываясь мурашками.
Но визг стихает, в один миг, будто его удалили, нажав на соответствующую клавишу. Эта клавиша называется «Delete»; как-то у меня сломался ноутбук и я пару вечеров работала с ноутбуком мужа, так вот – единственной клавишей со стершейся надписью была именно эта, «Delete».
Голубей на карнизе нет. Мужчин и посторонних женщин в палате нет. Есть сугробы из сероватой пены, есть полная Лариса, есть юная Корделия, она трясет головой, брызги воды вдруг окрашиваются в синий и оранжевый неизвестно откуда взявшимся лучом солнца и падают вниз уже вновь – обесцвеченными.