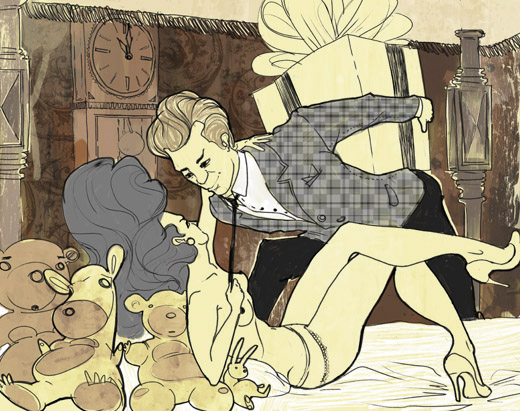Соня
Про второе появление Тины он расскажет совсем с другим настроением, обдумывая, каждое слово, уделяя внимание каждой интонации, поэтому фразы выходят слишком гладкими, слишком ровными, этакая письменная речь.
Тина подошла к нему традиционно – на улице. Он узнал ее мгновенно, пусть она изменилась.
Повзрослела, пожалуй, взвешенно говорит Филиппов. Он встает, отходит от меня на максимально удаленное расстояние, словно эти два с половиной метра амортизируют, смягчат. Но нет, я дергалась под вечным тулупом, как от затрещин, оплеух и подзатыльников.
«А вот и ты, — весело сказала Тина, — сколько лет, сколько зим. Не выпить ли нам по чашке чая?». И они пошли выпивать по чашке чая.
Закрыла глаза. Филиппов прочно остановился в точке, скажем, зенита, а я была – надиром. Филипповский зенит располагался между двух окон, бамбуковые жалюзи опущены, зияют проплешины выломанных прутьев и можно рассматривать улицу 5-ой армии, но Филиппов не рассматривает. Он уставился на постер с торжествующим профилем свиньи и слоганом «Получать от одной свиноматки до 2,5 тонн свинины живой массой в год».
Выпить чашку чая. Тина теперь носила серьгу в крыле носа, ногти ее были разрисованы алыми маками, Филиппов обратил внимание. Одежда выглядела дорого, ключи от автомобиля, брелок с логотипом BMW, Тина смеялась, рассказывала о своих путешествиях, о забавных приключениях в Берлине, где все ее принимали за бразильянку и вообще они с подругой были самыми красивыми девушками на «территории действия евро», и он безусловно верил.
Чашка чая выпивается за тридцать минут, максимум – пятьдесят, и вроде бы надо переходить к чему-то следующему, или надо вставать, надевать теплое пальто, перчатки с внутренним мехом и уходить. Филиппов неловко сунул официанту кредитную карту, расписался в чеке, Тина словно ждала от него каких-то действий, обязательных по ее мнению.
«Давай сразу об основном», — сказала она, откидывая тонкие плечи назад, Филиппов подал шубу, «что-то белое и стриженое».
«ОН тебя не беспокоил?», — сказала она сразу, застегивая тонкими пальцами в кольцах и алых маках на шубе крючки.
«Кто — он?», — рассеянно спросил Филиппов, он уже жалел о чашке чая и хотел в родное автомобильное нутро.
«Будь серьезнее, — попросила его Тина, как упрямого подростка, — мы о серьезных вещах говорим. Я понимаю твою осторожность, но со мной-то можно. В конце концов, я рисковала больше всех. Я – мать. И я хочу знать, добилась ли я своего, не мстит ли тебе этот … это… это существо».
И тут я сразу понял, что она сумасшедшая, говорит Филиппов со своего зенита. Сумасшедшая, живет в бреду, шизофрения дает великолепный, саморегулирующийся бред, я бы даже сказал – самостоятельно развивающийся. Вот и Тина с какого-то момента… Я допускаю, что она могла быть беременной. Но скорее всего, потеряла плод. Сознание, стремясь спасти хрупкий Тинин мозг, выстроила такую вот конструкцию о вредоносном существе. Якобы Тина еще и мир спасла. Полный набор!
Выпьем водки, — предлагает Филиппов.
Она теплая, отказываюсь я.
А я выпью. Филиппов выпивает теплой водки, закуривает сигарету, отмахивает дым от лица.
Он не хотел с ней встречаться. Может быть, даже боялся. Вот так: на первом месте – боялся, на втором – не хотел. Неадекватные люди неприятны в собеседниках, тяжелы в приятелях, невозможны в любовницах. Но Тина не желала вновь терять Филиппова из виду, и умела быть полезной. На тот момент она близко общалась с одним известным в городе богатым и влиятельным мужчиной, депутатом областной думы. Он купил ей большую хорошую квартиру, неприлично дорогую машину и вообще – платил за все. Как-то Филиппов «чтобы поддержать разговор» сказал, что для получения нового гранта ему необходимы исследования в «полевых» условиях, например, вот есть такой медицинский поезд Федор Углов, но он уже укомплектован кардиологами, и мало того – никто не даст ему простору для этих самых исследований.
Через неделю Тина принесла ему официальный запрос, позволяющий переводом с основного места службы получить желаемое место на поезде. Причем подписи были какие-то такие забубенно высокие, что Филиппов и сейчас потрясенно замолчал.
Этот депутат, он к ней очень привязан был, говорит он. Многое для нее делал. Она ведь постоянно деньги еще этой Марфе отправляла, потому что Марфа бедовала с испанским ребенком, без работы…
Я жалел ее, говорит он. Не мог видеть ее горя. Она обычно приезжала к концу дня, оживленная, в наряде, рассказывала что-то. Как-то я пригласил к этому времени коллегу, психиатра из городского диспансера. Она, увидев рядом со мной незнакомого мужчину, на полпути развернулась, ушла.
Нет, нет, говорит он. Ничего такого у нас не было. Но я не мог отделаться от мысли, что без меня она пропадет. Понимаешь, нет? Ты сильная, ты все можешь, ты отгрызаешь ногу, угодившую в капкан, и у тебя вырастает следующая нога, а она – больная, сумасшедшая, никчемная совершенно. Я не мог, говорит он.
У меня не вырастает нога, говорю я.
Тина сверкала, вбегала, шутила, хохотала. Отношения сложились — дружескими. Так их называл себе Филиппов, большой педант, ведь каждое движение требует точного обозначения.
Дружеские отношения, чашки чаю, помощь в делах, и только на одну тему он отказывался разговаривать и Тина поняла. Иногда набиралась смелости и спрашивала, пряча глаза, не нанесло ли существо в прошедшие дни вреда Филиппову. Филиппов в эти редкие моменты чувствовал себя окончательной свиньей, может быть, даже свиноматкой до 2,5 тонн, и всякий раз клялся плотно привлечь к проблеме психиатров. Но не привлек.
Елена
Привет, дорогая, не отвлекаю я тебя, нет? Наконец-то закончен длинный, длинный день — ездила к своим старушкам, обмазывали печь глиной и белили её, начали утром.
Мои соображения насчет преимуществ использования электрического котла никто не слушает, бабушка твердит: Альфреду не доверяю никогда, ну ты помнишь, так она называет котел.
Печка – Агафья, и вот Агафьиной частичной реконструкцией мы и занимались. Дело это не быстрое, утомительное: сначала замешивают глину, дают ей «настояться», причем никогда сразу не известно, сколько Агафья «возьмет» глины на этот раз, все непредсказуемо. Мама с теткой сновали с ведрами, у них есть штук пять ужасных цинковых ведер, мятых-перемятых и уже неотмываемых от разной въевшейся грязи, вода, комья глины, я месила в резиновых перчатках, бабушка смеялась желчно и ругалась белоручкой, и на тетку – тетка по моему примеру натянула перчатки тоже.
Потом тетка включила радио, какая-то фм-станция, музыка ретро, бабушка радостно предположила, что в борделе, конечно, привычнее работать под музыку. Тетка ответила, что под музыку-то сподручнее, но главное – не ошибиться с ритмом, и ловко припомнила бабушке позор с переездом; забавно, прошло чуть не десять лет, а она помнит каждую мелочь, например, как бабушка кричала на всю улицу мне: Лена! Лена! Осторожней с золотом!
При этом выразительно показывала взглядом на сморщенный от старости кожаный ридикюль, словно там лежал не выломанный остов от часов «чайка», а штук пять килограммовых слитков как минимум.
Значит, глина должна настояться, потом берутся полосы бинта, пропитываются глиной и приклеиваются на стены печи. Сверху пластается глина опять, лепится, уплотняется, грязная работа и даже перчатки не очень помогают. Глина светлеет, высыхая, и вот уже тетка в своем очередном ведре замешивает меловой раствор.
Никакой краски, никакой водоэмульсионки, это отвергается так же яростно, как и электрический котел Альфред. Что сказать, дорогая, казалось – никогда не кончится ни поверхность печки, ни глина, ни ужасная побелка, похожая на бариевую взвесь, потребную для рентгена желудка. Бабушка, сначала вызвавшись напечь пирогов, по мере готовности теста теряла всякое желание заниматься им дальше, ругала мать и тетку за леность, жаловалась на усталость и отсутствие любой благодарности. Я знала, что последует потом. Со странной торжественностью бабушка вытерла руки в муке о фартук и четко произнесла: «все потому, что Ленка детей не родила».
Так заканчивается большинство разговоров в нашей семье, да что там – все. Мама подхватывается на мою защиту, вспоминает перитонит и его следствие – гистерэктомию, исключающую, разумеется, любое деторождение. Не то, чтобы бабушка не знала об этом, но ей выгоднее забыть и повторять каждый раз: «все потому, что Ленка не родила».
Нет-нет, дорогая, меня это нисколько не расстраивает уже, скорее – раздражает, вот это точное слово. Я испытываю просто удушающее раздражение, и становлюсь опасной, как-то раз Игорь попался под горячую руку и я сломала ему мизинец на левой ноге, швырнув прицельно пепельницей из малахита. Пепельница, да, тогда я как раз впервые бросила курить, после именно этого случая.
Что говоришь? Ну, так все и закончилось – тетка с матерью белили печь, бабушка отправилась к соседям жаловаться на судьбу, но быстро вернулась с огромным местным жителем, зовут – Варфоломей, представь? Варфоломей сказал что-то типа: давайте, девки, прекращайте с вашей печью, она уже старая, дымоход не тянет, ведь есть же котел.
На что бабушка чисто по-русски послала его на … Она очень ловко все это может: начинает академически, заканчивает так. Мои старушки, господи.
Да нет, нет, все хорошо, не было бы хуже.
Игорь? Ну, что Игорь. Кроме того, что принялся, по всей видимости, конспектировать глянцевые журналы, ничего нового с ним не происходит. Какие шутки, дорогая…
Игорь
Я чувствую, как через меня протекает время. Обычно эти переживания вокруг хода часовой стрелки свойственны женщинам, их это страшит, ведь день сменяет ночь, май сменяет январь, минуты толпятся, царапают нежную кожу и лезут, смотришь – а что это за лишние мятые складки под глазами, вот здесь, и на шее вот здесь, и эти ноги, чьи они, старые ноги.
Но меня волнует другое, и каждое утро я лежу, не открывая глаз, ровно три минуты – считаю до двухсот, вот и три минуты, потом резко встаю, почти выбегаю из спальни, опрокидываю гладильную доску, утюг падает, и часто на ногу. Это больно, но мне нельзя двигаться медленно, у меня не получается двигаться медленно, довольно уже давно, равно как оставаться в неподвижности, мечусь.
Доходит до смешного – чищу зубы, хожу по дому с зубной щеткой, вибрирующей во рту, зрелище жутковатое само по себе, и еще я пытаюсь сам с собой говорить при этом. Вчера перед завтраком, жена протирала стол, аккуратно собирала отвратительные хлебные крошки в ладонь, я смотрел и вдруг сказал: «Что ты копаешься, стряхнула этот мусор на пол, и все, эта твоя засранная тряпка, она же с ума сведут кого угодно, ты как будто наслаждаешься бардаком, смотри, вот здесь теперь мокро, и будет мокро еще долго, как ты мне прикажешь есть вообще, как настраиваться на рабочий день».
И это еще не все, я многое добавил, жена смотрела не испуганно, но как-то так, что я не мог заткнуться еще очень долго, вскочил, ринулся в коридор, на ходу натягивая куртку и путаясь в рукавах, скатился чуть не кубарем по лестнице, все продолжал бормотать, и только уже на улице понял, что произношу РЕЧЬ.
Я написал на днях РЕЧЬ. Это произошло так: пришлось выехать в областной город, представлять клиента в суде, нуднейшее дело с переносом межевых столбов, причем заседание начиналось в девять утра. По времени добираться до тихого областного города около двух с половиной часов, я проснулся по будильнику в несусветную рань, ночной бар напротив еще даже не исторгал из себя праздных и озорных.
В ожидании кофе стоял и пялился на сияющую барную вывеску, раннее утро, и положено радоваться новому дню, но радоваться становится все сложнее и сложнее, у меня не истерика, – опять говорю вслух, — у меня не истерика, просто я хочу, чтобы меня выслушали.
Это бред, конечно, гнуснейшая ложь, я не хочу, чтобы меня выслушивали, я хочу, чтобы меня любили, но меня нельзя любить, я хочу, чтобы меня терпели и не гнали, так вот убого. В этом признаваться неприятно, даже себе самому, особенно себе самому, я специально громко рассмеялся, показывая всем, насколько все хорошо. И сказал вслух, опять вслух, вот почему я должен все это проговаривать вслух? – громче и с идиотским выражением значительности, сказал: я готовлю РЕЧЬ.
Сел, кофе забыл, ровно час писал от руки на полях журнала МАКСИМ, у него хорошие широкие поля, на кухню вышла жена и спросила: а ты разве не должен уже быть в дороге. Жена щурилась, растирала рукой глаза, когда-то я страшно влюбился в нее, заплетал косы, освоил техники плетения различных кос, французская, рыбий хвост, возникало много сложностей с кудрями, я преодолевал. Ты опоздаешь, повторила жена.
Естественно, опоздаю, я сорвался с места, с полпути вернулся, забрал журнал. Дело клиент проиграл, зато я удобно устроился в местном небольшом кафе, неожиданно симпатичном, что-то такое в итальянском стиле, скатерти в клетку и кьянти в оплетенных бутылках за барной стойкой. Сидел около трех, наверное, часов. РЕЧЬ была подготовлена.
Проходит пара дней, я просыпаюсь, лежу, не открывая глаз, ровно три минуты – считаю до двухсот, вот и три минуты, потом резко встаю, почти выбегаю из спальни, опрокидываю гладильную доску, утюг падает.
Соня
Я нечасто разговариваю про секс. Мне не с кем часто разговаривать про секс, да и нечасто тоже не с кем разговаривать, близких подруг у меня нет, а с приятельницами нужно сначала долго взвешивать, уместна ли эта тема сейчас, потом аккуратно формулировать. Бояться ошибиться, сжимать в зубах основную мысль как раненый республиканец пулю.
Катя зачастую с подробностями и отступлениями повествует о своем любовнике таком-то, о своем муже номер три, о виртуальном сексе с Полом, но отчего-то именно Катя, с ее кукольно-безупречным лицом, четко подведенным алой помадой ртом и неизменным декольте кажется мне асексуальной.
Иногда хулигански думаю, что ничто не мешает мне купить, скажем, кружевное темно-синее белье и эти чулки и даже корсет, носить с гордостью, воздействуя надстройкой на базис, но не покупаю, не ношу, все-таки признавая наличие препятствий этому.
Но с недавних пор я знаю о себе нечто новое.
Пусть будет по порядку. На самом деле, я хотела бы этот случай даже записать, но пока прокручиваю в голове и дроблю на сцены с действующими лицами. Делаю это для того, чтобы была дополнительная причина предаваться воспоминаниям.
Глава корейской семьи, задерживающей расселение «шоколадной» коммуналки на Красногвардейской, вернулся вроде бы. «Приехал, мать его так», — наябедничала по телефону вторая соседка, женщина странных лет, неизменно с матерчатой сумкой через плечо. Я видела, как она достала оттуда консервный нож, другой раз – катушку суровых ниток и швейную иглу с крупным ушком. Звали соседку Надька Комарова, она представилась так. Подумав, добавила, что у нее «шкаф полон импорта». Позднее меня познакомили со шкафом. Он был полон мужской ондатровой шапкой.
«Пожалуйста, скажите ему, чтобы в течение часа оставался дома», — попросила я горячо. Корейца ждала всем сердцем.
«Ну, не знай, навряд он послушается, — усомнилась Надька Комарова, — он такой, сами его видали, вихрится, косорыленький».
Я видала корейца сама и поэтому поспешила. На месте была уже через тридцать пять минут, что очень хороший результат для вечернего времени, заторов на дорогах и моего сумрачного настроения. Чувствовала я себя скверно, болела голова, привязался насморк; несмотря на середину марта было холодно и шел снег.
Надька Комарова гуляла по улице. Для тепла она закуталась в шерстяное одеяло, прямо в цветастом пододеяльнике, «еще бы подушку на голову надела», пробормотала ошеломленная я.
«Жду тебя, — пояснила она изнутри, — давай-ка договоримся. Если меняться куда, то в городе. Ни в негритянский поселок твой не поеду, ни в какие ебеня. Я здесь родилась, здесь и буду. А в ебенях – не буду».
«Мы обязательно обсудим все варианты, — отработанно сказала я, — нет причин для волнений».
«Нет, ты клянись мне, кровью клянись», — Надька Комарова подошла ближе, от нее отчетливо пахло мазью Вишневского.
«Понимаете…», — сказать я про кровь ничего не успела, так как Надька Комарова дернулась всем телом, сбросила одеяло в пододеяльнике на мерзлую все еще землю, поправила матерчатую сумку, скрытую до поры, и набросилась на высокую худую старуху, вышедшую из подъезда. Набросилась в буквальном смысле слова: обхватила ее плечи руками, а коленом пыталась ударить в живот, старуха умело сгруппировалась и оттесняла Надьку Комарову острым локтем.
«Вы что делаете», — глупо спросила я и тоже обхватила старуху за плечи, стараясь оттащить ее от обезумевшей, видимо, Надьки Комаровой.
«Я тебе шею-то сломаю, — шипела Надька. – Старая!..».
«Я участковому звоню», — произнесли у меня за спиной спокойно.
Надька Комарова медленно опустила руки, продравшись через мои, дернула плечом , чуть отошла и закопошилась в ворохе одеяла, поднимая его, вытряхивая мокрый снег и просто мусор улиц.
«Потом сломаю», — в сторону заметила она.
Женщина за моей спиной действительно держала в руках телефон. Стояла, без верхней одежды, в платье растительного узора, свободной рукой убирала со лба мелкокудрявую прядь волос. Она была довольно крупной, не толстой – через живот к спине, а крупной – разворот плеч, высота груди, мощь бедер. Очень белая кожа, широкие скулы, чуть вывернутые темно-розовые губы. На шее множество цепочек с подвесками и медальонами.
«Ну, вы что стоите, — сказала она старухе, — пойдемте. Пока вам шею не сломали». Старуха молчала, глядя наверх, черные ветки деревьев цепляли луна и фонарный столб, подкрашенный серебрянкой.
Надька Комарова закричала, не меняя позы: «Да ты старая офигела совсем, у тебя дым из хаты валит, сжечь нас захотела, сжечь?!».
В щели между рамами трех окон эркера действительно выбивался черный дым, старуха не дрогнула лицом и невозмутимо продолжала стоять, женщина со многими медальонами быстро развернулась, вошла в дом, я за ней. Не знаю, зачем.
В старухиной квартире забыли, очевидно, включенным чайник устаревшего образца, такие кипятят и кипятят воду, пока не помешает стороннее что-нибудь. Внешний фактор. У старухи таким фактором явилось полное выгорание электрической розетки; на стене в дешевых бумажных обоях обугливались шариковой ручкой записанные неизвестные телефонные номера, тонкая синяя электрическая дуга страшно вспыхивала.
Женщина быстрыми шагами куда-то вышла, когда вернулась, чайник перестал плеваться кипятком, розетка — искрить. Женщина провела рукой по лицу, будто умывалась насухую и сказала: «Отключила пока электричество. Извините за беспокойство».
«Н-н-ничего», — пробормотала я. Пахло жженой пластмассой и кипящей водой. Из чайного носика поднимался белесый пар.
Я ощущала странное волнение, не могла осознать его природы поначалу, и лишь позже догадалась – это же возбуждение, такой сюрприз; не мудрено забыть, у меня не было такого много лет, у меня не было такого никогда. Стояла, не могла уйти, хоть каждая минута усиливала неловкость, напряжение, да что я тут делаю вообще? Разглядываю красавицу, она ведь потрясающе красива, эти прямые плечи, тяжелая грудь, ровная спина, равнодушный взгляд.
Мне нравится, как она держится, очень уверенно, она знает, что ей не придется никому доказывать свою значимость, авторитет, меня это успокаивает, всегда переживаю за людей, испытывающих неловкость. Надо улыбнуться и выходить. Меня ждут корейцы, восемь человек, глава клана, надо ловить, пользоваться моментом, я профессионал, специалист с большим стажем, ценный сотрудник.
«Я пошла», — говорю я, с трудом ворочая языком и губами, звуки изо рта выходят смазанными.
«Всего хорошего», – кивает она, кудрявая прядь светится в подступающих сумерках.
«Я Соня», — умею выговорить я. Это же важно, представиться. Еще можно дать визитную карточку. Протягиваю клок картона.
«Елена», — с запозданием отвечает она, будто не совсем уверена.
Елена Троянская, дочь Спартанской царицы Леды, прекраснейшая из женщин. Пройти мимо и специально задеть ее рукой, пальцами, самыми кончиками пальцев. Держаться преувеличенно прямо, пытаясь скрыть присутствие высоких волн, что качают тебя, уносят, накрывают с головой, глотать взбитую пену, соленую воду, ее много. Неужели плачешь.
Корейца как раз упустила в тот день.
Генрих был в ярости. Плохая работа, говорил.
Художник: Александр Григорьев