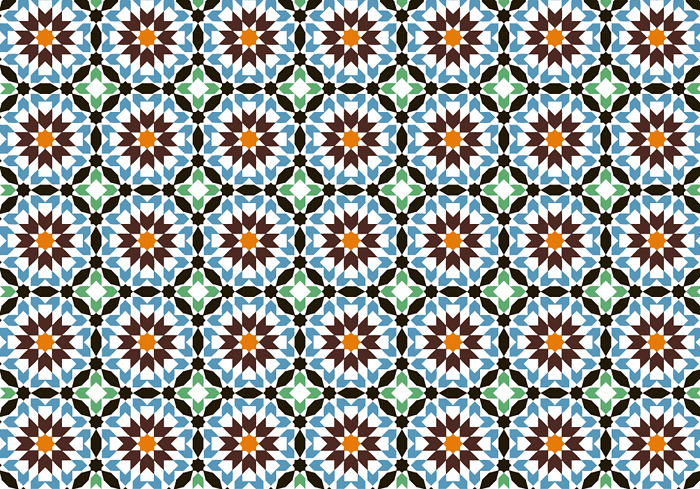Больница св. Ксении петербургской.
— Фамилия.
Врач не отрывает глаз от монитора компьютера, знакомая бело-оранжевая гамма – сайт одноклассники. Врач яростно комментирует фотографию рыхлой блондинки в гигантских солнцезащитных очках, пальцы её колотят по эргономичной клавиатуре с подушечками. На отложном её воротнике болтается бейдж.
— Имя-отчество.
— Ольга Владимировна.
— Ольга Владимировна, — врач двигает к себе ворох сероватых бумаг, — давайте платежные документы и нотариально заверенное соглашение.
Я протягиваю чек, полученный часом ранее в больничной кассе. Внизу надпись: спасибо. Из объемистой сумки достаю лист формата А4, типографски отпечатанная форма, внизу две подписи – Борькина и нотариусова.
Врач смотрит, остается удовлетворенной, лист формата А4 откладывает, квитанцию возвращает:
— Пусть будет у вас. На всякий случай, знаете… Так. Ольга Владимировна. Вы лекарства все переносите?
— Кажется, да.
Врач берет в руки разрешение. Переписывает в амбарную тетрадь данные. На переносице ее возникают две вертикальные морщины, в центре одной прорастает темный волос. Блуждающая бровь?
— Так, минуточку, — листает историю болезни, — вы ведь карантин прошли? Я вас не помню. Вы на первичном приеме у меня были?
Согласно новому закону о «Репродуктивном здоровье» для женщин, решивших сделать аборт, был введен обязательный карантин, срок – неделя. Для поздних сроков мораторий сокращался до сорока восьми часов, что по-прежнему не проясняло его роли в охране здоровья российских граждан.
— Нет, у другого доктора. Много старше. В очках, массивная оправа. Высокая прическа из седых волос.
— Понятно. Завотделением вас смотрела, значит. А скажите, — врач на время перестает заполнять бумаги, — я вот смотрю, вы у нотариуса Щеткиной были… Скажите, там как?
Я понимаю вопрос.
— Многолюдно, — отвечаю, с трудом проглотив слюну.
Нотариус Щеткина заняла под свою контору целый особняк, памятник архитектуры – деревянный модерн, большая редкость, круглое окно в сетке переплетов справа от парадного подъезда, обрамленного портиком. Особняк стоит посреди парка, изрядно заросшего неизвестно чем. Поздней осенью темные кусты выглядят враждебно, а деревья с лишенными цвета редкими листьями кажутся чем-то совершенно другим. Ветви тяжелеют и спускаются низко, будто вынюхивая что-то с мокрой земли; недавно шел снег, но он стаял, не оставив после себя ничего. Даже не первый снег, а какая-то холодная несуразица, кляксами залепившая стекла очков вон той высокой худой даме, она снимает очки и протирает стекла голыми пальцами, остаются разводы.
Высокая дама опирается рукой на бронзовую скульптуру русалки, русалка приподнялась на хвосте и улыбается призывно железным полуоткрытым ртом, ее обнаженная грудь выглядит непристойной среди окружающего запустенья и бледных женских лиц, особенно — рельефно отлитые соски, каждый размером с детский кулак. Балкон второго этажа поддерживают четыре резные колонны, когда отсюда хозяин приветствовал гостей, а сейчас хранятся двадцатилитровые баллоны с питьевой водой. Широкая лестница с дубовыми перилами полукругом идет вдоль стены, напоминая посетителям о прежних славных временах – чаепитиях в саду, запряженных конях, дамских перчатках на холеных ручках и хороших манерах. Планировка особняка сохранилась оригинальной – холл перетекает в большой зал с двумя рядами высоких окон, смотрящих в сад. Когда-то это был музыкальный зал, где давались балы и проводились приемы. Лепнина, чудный паркет, кессонный свод потолка, обшитого дубовыми панелями. Из музыкального зала можно попасть в рабочий кабинет нотариуса Щеткиной, где сохранился великолепный камин с голландскими изразцами — в лучших традициях, изображения практически не повторяются и все имеют подписи на русском языке, я читала. Нотариус Щеткина сидит за дешевым столом из полированной древесно-стружечной плиты, такие столы лет тридцать назад заботливые родители покупали первоклассникам в последние их дошкольные каникулы – справа тумба, слева три выдвижных ящика. Нотариус Щеткина очень крупная женщина, иногда она держит стол вместе с тумбой и тремя выдвижными ящиками на своих крепких коленях, приподнимая от поверхности пола.
На втором этаже она живет, отходит ко сну в комнате с огромным окном, недавно мастерски реставрированным, помещение предназначалось раньше для оранжереи, здесь всегда много света. Ночью нотариус Щеткина могла бы вести наблюдения за звездами и разговаривать с луной, возможно, она так и делает. Возможно, она лично пересаживала розы или сколачивала нелепые скамейки по обе стороны дорожки, засыпанной гравием. С семи утра до восьми вечера эти скамейки все равно плотно заняты женщинами разных возрастов, иногда мужчинами, но обычно мужчины приезжают по звонку, когда очередь уже подходит. Они стремительно проходят всеми этими дорожками, внедряясь подошвами в гравий, толкают дверь особняка от себя – на двери латунная табличка «Нотариус Щепкина Ф.Я.» — и пропадают внутрь.
Внутри те же скамейки, как-то неправильно и неконструктивно собранные из крашеных досок, и те же женщины. Злые языки говорят, что возможность приобрести свой особняк в стиле деревянный модерн нотариус Щеткина получила, всего лишь полгода занимаясь выдачей заверенных мужьями разрешений на аборты. Высокая дама зеленеет и выскакивает наружу – токсикоз.
— Ольга Владимировна! – наверное, врач уже несколько раз повторила свое обращение, тон несколько раздраженный, — я говорю, проходите, второй этаж, палата семь. Располагайтесь, начнем ровно в девять. Займете живую очередь у малой операционной, по коридору направо и до конца. Но не раньше девяти часов. Вы только обувь переоденьте прямо здесь. У вас тапочки с собой? Желательно кожаные.
Складываю сапоги в пакет, тапочки на ногах, выходя в коридор, сталкиваюсь с грузной женщиной в белом халате и шапочке из синего полиэтилена.
— Я четыре дежурства в месяц не могу, — басом говорит она, — никак не могу! Вы меня в какое положение ставите, четыре дежурства!
— К заведующему отделением, — переадресует ее врач.
— У меня внучка живет, сирота! Ей семь месяцев с половиной.
— К заведующему отделением.
— А прошлый раз не доплатили одну тысячу пятьдесят рублей!
— К заведующему отделением.
Грузная женщина не сдается и начинает сначала:
— Я четыре дежурства в месяц не могу, никак не могу!
Здание больницы старое, лестничные пролеты просторные, мраморные ступени скользкие, держусь крепко за перила, хоть надо бы разжать ладони и падать вниз. Линолеум исчеркан колеями от каталок, вытоптан кожаными тапками, залит слезами и кровью, от этого он потерял первоначальный орнамент и каждый в силах выдумать свой собственный. Девочка лет четырнадцати на вид рисует носком ноги окружности равного диаметра, сидя на низкой кушетке, обтянутой коричневой тусклой клеенкой. Ее волосы собраны на затылке в тугой пучок, как это принято у балерин.
— Простите, пожалуйста, — вежливо обращается она ко мне, — вы не будете столь любезны, чтобы дать мне двадцать пять рублей?
Перекинув пальто и сумки на одну руку, протягиваю пятьдесят.
— Благодарю, — кивает она, — я тогда сразу две пеленки куплю. Купить на вашу долю? Ну, такую, прорезиненную, чтобы подложить потом. Или у вас есть? Будем знакомы, Корделия.
— Да, да.
Отвечаю невпопад, ладно, надо найти палату и занять живую очередь. Корделия, красивое имя, так звали одну из дочерей короля Лира, кажется. Палата большая, очень большая, представляет собой две смежные комнаты, соединенные высокой аркой; кровати стоят практически впритык, на расстоянии половицы друг от друга, никакую тумбочку не втиснешь, да и зачем тут тумбочки, никто не останется более чем два–три часа.
Красавица азиатской внешности отводит длинные глаза, встретившись со мной взглядом, она странно одета – вязаная кофта с заметными прорехами и тренировочные трико большого размера, все это предельно не сочетается с белоснежной кожей и хорошими брильянтами на пальцах идеальной формы.
Очень полная женщина сидит на кровати по соседству, пружины под ее телом растянулись солидно, и пухлые колени вздрагивают почти на уровне подбородка. Волосы растрепаны, на ладонь от корней светлые, ниже – иссиня-черные.
— А я вот, со своей стороны, — говорит она, — не собираюсь унывать. Я со своей стороны теперь собираюсь умнеть.
На нее никто не смотрит, пожалуй, разве очень худая женщина с крайней от окна места, она даже встает, и, аккуратно лавируя в лабиринте кроватей, подходит ближе и переспрашивает несмело:
— Вы что-то конкретное имеете в виду? Дыхательную гимнастику Стрельниковой?
Полная женщина смотрит на молодую дико, азиатка неожиданно смеется, очень громко.
— Чего ржешь-то, чурка нерусская? – ласково откликается санитарка, заглянувшая из коридора со стопкой серого белья.
Входит давешняя Корделия, бросает на панцирную сетку две сложенные пополам клеенки.
— Слышь, ты, молодая, — обращается к ней санитарка, — тебе лет-то сколько? Родительское разрешение есть? А подпись директора школы? А этого…как его? Федерального инспектора?
— Сама молодая, — огрызается Корделия, — все у меня есть. Наверное, если бы не было, наверное, меня сюда не запустили бы!
— А черт вас знает, поблядушек, — санитарка благодушно растягивает вялые губы, улыбка полна желтоватых зубов, изъеденных кариесом.
Корделия закатывает глаза, на правах старой знакомой подходит ко мне и даже берет за руку, я резко отстраняюсь, пружины панцирной сетки звенят, это выглядит очень грубо, не желая обижать девочку, быстро говорю первое, пришедшее на ум:
— Смотрю, вы купили клеенки.
— Купила, — девочка отчего-то говорит шепотом, и зубы ее стучат, сталкиваясь друг с другом, — к-к-купила. Говорите мне «ты», ладно? Вы ведь знаете Доротею Марковну?
— Нет.
— Я вам расскажу. Я боюсь. Мне кажется, что если я вам расскажу, мне будет не так страшно. Доротея Марковна – это медсестра. Медицинская сестра. Она тут работает. Давно, ей на самом деле много лет, примерно пятьдесят. И у нее есть мужик, ну, то есть она как-то познакомилась с мужиком, так сказать. И они стали встречаться, несмотря на ее старый возраст. И все кругом удивлялись, чем она привлекла такого мужика, неплохого и непьющего, много моложе её. А потом ее поймали, ну просто за руку поймали в душевой. Вот как было дело…
Корделия наклоняется низко, низко, ее губы почти касаются моего уха, воздух, что она выдыхает мне в шею, кажется холодным; покрываюсь мурашками – и руки, и ноги, и щеки, замерзаю, обледеневаю в тумане.
— Случилась такая история, что Доротею Марковну потеряли во время рабочего дня, — продолжает девочка, — а она крепко понадобилась кому-то, заведующей ли, дежурному врачу ли – уже неизвестно, но ее стали искать, заглядывать во всякие там комнатки, служебные помещения… И нашли в душевой… Она стояла на коленях перед тем самым мужиком, что моложе и непьющий, в руках держала специальную посудину… эмалированный такой изогнутый таз медицинский, как его там… Как его там?
— Кювета?
— Да, точно! И он ел руками из этой кюветы — кровяные сгустки, абортивный материал. Ел, а она утирала его лицо казенной простыней… она вся была в ржавых таких пятнах… Одни посвежее, другие уже высохшие… Вы понимаете?
— Да, — в ужасе отвечаю я, ощущая сильный шум голове.
— Ну вот, – через шум продолжает Корделия, — и был скандал, но ее не выгнали… Доротею эту Марковну. Потому что ведь некому работать, больница государственная и платят мало… А я боюсь, я очень боюсь!..
Я это еще слышу, а более ничего не слышу, потому что меня шумно и мерзко рвет желчью на пол, на кожаные тапочки, на черную хорошую сумку, сумку преподнес Борька на день рождения год назад.
Москва, Кривоколенный переулок.
Резко прозвонил телефон. Кристина аккуратно подняла трубку и тут же опустила ее на старомодный корпус дымно-черного аппарата, витой шнур упруго обвился вокруг ее руки, с раздражением она из этой петли высвободилась.
Телефонный аппарат подарил отцу нарком связи Иван Пересыпкин. Отец, академик Плевко, часто напоминал об этом. «Вынимает, понимаешь, коробку! И – бух ее мне на стол! А я ему: чертежи не мни, паскуда!». Работа отца долгое время была максимально засекречена, как все связанное с космосом, до членов семьи доносились короткие смешные истории – байки. Например, про обязательное переодевание все военнослужащих на космодроме Байконур в штатское платье – нет у нас никаких военных рядом с ракетами, мирная служба.
Хоронили отца в давнишнем ноябре. Кристина рыдала у себя в комнате, Андрей Андреевич тронул ее за плечо. Светлые глаза его полнились яростью. «Не так истерично, девочка моя, — сказал он, — не перегибай палку». Рядом с ним стояла пожилая женщина с испуганным лицом, белый халат, накрахмаленная шапочка. Повинуясь кивку Андрея Андреевича, она закатала черный рукав платья и воткнула иглу одноразового шприца в Кристинино плечо. Кристине сначала стало жарко, потом холодно, потом тепло, пересохло во рту, и кончились слезы. Она вышла в церемониальный зал, поддерживаемая скорбящим мужем. И обязательно в глубине свежевыкопанных могил плещется вода.
По комнате летали семена одуванчиков, Кристина попыталась поймать одно в кулак, но тщетно; звонила же, наверняка, тетка Светлана с еженедельной поверкой, сегодня был именно четверг. По четвергам она подтаскивала свое грузное, малопослушное тело к телефону, и звонила родственникам по списку. Список насчитывал семь позиций, возглавляла его покойница-дочь, а теткин телефонный аппарат можно было считать братом Кристининого – нарком связи Иван Пересыпкин подарил академику Плевко тогда таких два. Красавцы! Один он установил сестре. Тетке Светлане в сороковом году исполнилось пятнадцать, и она впервые подстригла челку. Сейчас у нее практически не осталось волос, но она по ним не плакала.
Кристина положила трубку близ вороного телефонного бока, решила отложить разговор с теткой на потом. Вечерело, звонко лаяли соседские собаки – королевские пудели с именами Чук и Гек, кругом одуванчиковый пух и цветущие липы, а совсем недавно цвела сирень, или уже давно? Кристина придвинула к себе лист бумаги, прекрасного качества бумага ручной работы, приятно шероховатая; как-то купила по случаю в Италии. Чудный маленький магазин в Амальфи, недалеко от знаменитого Museo della Carta, там торгуют исключительно дорогой бумагой – для акварели, рисунка, скрапбукинга и декупажа; далекая от всех этих занятий Кристина накупила всевозможной, включая рисовую. Бумага и конверты, она всегда любила писать от руки, бесплатность электронных сообщений с самого начала как-то уязвляла; но по странной иронии наиболее ожидаемые послания она все же получала на почтовый ящик Яндекса. Кинула взгляд на ноутбук, в закрытом состоянии он был плоский и больше напоминал разделочную доску для кухонь, как это и обыграли недавно в одном из социально-рекламных роликов — рекламировали материнство.
Выход ролика точно приурочили ко дню подписания Президентом законопроекта «О репродуктивном здоровье», разработанным и предложенным рабочей группой депутатов Госдумы, все они были членами партии СРП. В частности, предлагалось вывести аборты из перечня медицинских услуг, дать врачам право на отказ проведения абортов, упорядочить лицензирование и ужесточить план мероприятий по выдаче разрешений на прерывание беременности. Замужние женщины допускались в профильные клиники только с документального согласия мужа, гражданский брак приравнивался к официальному. Помимо этого, женщина, первично обратившаяся к врачу с намерением сделать аборт, на второй прием приглашалась лишь через неделю – выдерживался карантин, время «тишины», фактически это означало отказ в праве на легальную операцию. Предусмотрена уголовная ответственность для врачей, нарушающих установленный свод правил.
Андрей Андреевич очень хорошо смотрелся на агитационном плакате в окружении шестерых взрослых детей, Кристина – скромно сбоку, ноги скрещены в лодыжках, понимающая улыбка, образцовая мать; а если бы дизайнер проговорился, что трех сыновей пришлось монтировать в «фотошопе», его бы наказали. Разумеется, дизайнер не проговорился.
Артем фотографироваться с семьей отказался без объяснений, Антон неохотно согласился и пришел – с опозданием, вроде бы не пьяный, но. Целовал свою собственную руку, говорил по-английски и не снимал темных гигантских очков. Его сопровождала девушка с сильными босыми ногами, плотным телом и маленькой головкой, она летала по студии крупной птицей; в результате Кристина недосчиталась пакета с запасным комплектом одежды — надо же разнообразить фотографии, менять платье. О пропаже одежды она промолчала. На городской квартире Антона вечером не обнаружила. Вспомнила вдруг, что Антон был рекордное количество раз отчислен из университета – одиннадцать. Секретарь Галя поправила: двенадцать. Алексей находился в Южно-Африканской республике – случайно оказался, и глупо было бы не посетить национальный парк Кагга-Кхама. Кристина не представляла себе ситуации, когда бы она могла случайно попасть не то что в Южно-Африканскую республику, а на соседнюю улицу.
Опять я себе вру, равнодушно отметила она, вновь посмотрела на ноутбук. Открыла крышку. Пока загружалась операционная система, написала в самом верху бумажного листа: «Уважаемый Петр Михайлович! Благодарю Вас за благотворительный взнос…». Андрей Андреевич как-то снисходительно пошутил, что диалоги Кристины со спонсорами местами похожи на честный грабеж населения: «Слышь, ты, мобила есть? А деньги есть? А если найду?»
Да, и надо все-таки позвонить тетке Светлане. Кристина старалась минимизировать разговары с ней. Женщин объединяла тайна, такая большая, что отпусти ее на волю, и она пожрала бы все вокруг, включая особняк на Николиной горе, прочую недвижимость в разных европейских городах, а также саму Кристину Раевскую, мужа ее Андрея Андреевича и шестерых их детей, имена которых начинались на букву «А», если не брать в расчет младшую дочь, крещенную в больничной палате кривым на один глаз священником.
Вот Кристина Раевская. Набирает номер, проворачивает диск. Тетка откликается немедленно, словно сидела в обнимку с аппаратом и наматывала телефонный провод на искривленный артритом палец. Говорит, задыхаясь, торопливо выпихивая информацию, с которой не желает оставаться наедине:
— Звонила учительница. Она тяжело болеет. Чуть ли не при смерти. Чуть ли не со дня на день.
— Какая еще учительница, — не понимает пока Кристина, удивляется. Думает, что тетка окончательно повредилась в уме.
— Какая! Такая!
— Так, — Кристина закатывает глаза, — ты совсем уже, да? А еще кто тебе звонил? Газоэлектросварщик из Нарьян-Мара не звонил, нет? Инженер из Саратова? Ты не стесняйся, рассказывай.
— Учительница из Рязани, — произносит тетка Светлана по слогам. – Она умирает.
Трубка не выпала из Кристининых пальцев, но ровно в середине её грудной клетки образовался маленький пока смерч, компактный торнадо, он живо набирал обороты, раскручивал спираль, вот уже захваченными оказались ребра, ключицы, тазовые кости, крестец, берцовая кость, кости стопы и свод черепа, и вот уже Кристину разматывает по комнате, рядом с семенами одуванчика, того и гляди – вынесет в окно. Правда, окно закрыто, работает кондиционер, откуда только и берется этот уличный мусор.
Поселок Щербинка, улица Школьная.
Региональный представитель партии СРП, молодой человек Афанасий Орлов жил в столице недавно, и стремился он сюда вовсе не для роста карьеры, близости реальной власти и всего такого, а из-за жены. Жена Орлова, бедная Ксения, страдала псориазом, имела большую группу инвалидности, а в Москве хорошие врачи были все-таки доступнее, чем в Саратове. Под жилье удачно подошла старая дача в Щербинке, пустил товарищ, с условием платить за свет и воду – щитовой одноэтажный дом, какие-то сухие грядки, жена прямо вцепилась в лопату и принялась возделывать земли.
Афанасий Орлов ранним утром выходил на рассыхающуюся террасу, синяя масляная краска устала лупиться от стен, из трещин прорастала трава, дикий виноград взбирался на крышу, его листы приветливо помахивали зеленью ладоней. Печки в доме, рассчитанном на летнюю эксплуатацию, никакой не было, «но существует же европейская система отопления, полы с подогревом и утепленные стены», — оптимистично думал Афанасий Орлов, — ничего такого в доме не имелось тоже.
Далее он следил за греющимся на плитке молоком, чтобы не закипело, а только начинало кипеть, заливал порошок какао, добавлял сахар, тщательно перемешивал и выпивал, а жена все спала, зачем ей подниматься рано. Когда они познакомились, она уже болела, будущая теща как-то поймала Афанасия Орлова за дверью и сказала в лицо, ее дыхание пахло квашеной капустой: «Ты, — сказала будущая теща, — к нам шляться-то перестань, понял? Девчонка моя – инвалид, ты погулял и свалил, а ей – рыдай. Нет, нам настоящий мужик нужен, такой, чтобы своих не бросал…» Афанасий Орлов следующие полгода доказывал, что своих не бросает. Должно быть, он и сейчас это продолжает доказывать, каждую минуту, даже споласкивая посуду после завтрака – сначала холодной водой, чтобы освободить от остатков молока, потом обдавал из чайника крутым кипятком.
Афанасий Орлов открывал дощатые косые ворота, выкатывал автомобиль на улицу руками – чтобы не тревожить ревом двигателя сон жены, ему это было совершенно нетрудно, даже полезно, зарядка. Садился за руль, закуривал, несколько минут просто сидел, выдыхая дым, смотрел через лобовое стекло на грунтовую дорогу впереди себя, дорога красиво змеилась вдаль, по сторонам изобильно зеленели деревья с круглыми кронами, и распускалась сирень, роняя счастливые цветки с пятью лепестками.
Кристина утверждала текст приглашения на благотворительную выставку, сидела в одном из кабинетов штаб-квартиры, юбка королевской длины – до середины колена колена, жакет с рукавами три четверти, светлые волосы туго скручены в низкий узел, тяжелый традиционный жемчуг лоснится на шее. Она оглянулась, привлеченная чьим-то голосом, не очень громким, присутствовал некоторый трудноуловимый дефект речи – потом уже она разобралась, что Афанасий Орлов игнорировал звук «й», причем даже в составе гласных «е», «ю» и так далее, «очень приатно», «моа машина». Бедный мальчик, подумала Кристина, родители прошляпили. Бедный мальчик выглядел мило: высокий, худощавый, смуглые провалы щек, короткая стрижка с аккуратным пробором справа. Налево от пробора вились волосы, ворохом графитовых запятых. Кристина прислушалась.
— Там вот как получилось. Петька эта квартиру снимал, оплачивал наличными, естественно. А последний месяц вообще закрутился – и опоздал с оплатой. И тут у жены — юбилей. В общем, все собрались, настоящее событие, хороший ресторан, за центральным столиком хозяйка вечера стучит вилкой по бокалу — просит слова. Все замолкают, тишина, и вот в этой тишине одна гостья перегибается через стол и спрашивает Петьку: ну что, может быть, сегодня за хату расплатишься? Оказывается, это квартирная хозяйка. Он не узнал ее.
— Был скандал? – спросила Кристина, прокрутившись на кресле.
— Небольшой, — ответил бедный мальчик, потемнев скулами.
«Покраснел», — догадалась Кристина.
Подошла Галя, на вытянутых руках она держала кипу документов, сверху – плоский бархатный футляр, в такие футляры упаковывают часы и украшения.
— Курьер принес, — отдуваясь, объяснила Галя, — вам. Будете смотреть? Или сразу обратно отправить?
Кристина не принимала подарков от посторонних, но что-то толкнуло ее – одновременно в грудь и под руку, рука самостоятельно завладела футляром, а в груди что-то острое повернулось и больно закололо под шею. Она покрутила головой, отгоняя боль. Обнаружила в коробке браслет, недорогой (по ее меркам) эмалевый от Frey Wille, поднялась со стула и с некоторым усилием вставила в него правую руку. Галя открывала с удивлением рот, но не находила, видимо, слов.
— Нет, нет! — сказала строго Кристина, будто бы с ней кто-то спорил, и потянула браслет вниз, сильно надавливая пальцами на чередующиеся оранжевые и синие четырехугольники – узор, сплошь покрывающий плоскую поверхность браслета. Кажется, такой узор имеет название, но Кристина не помнила.
Она не нервничала, ничего такого, просто сильно ныло основание шеи, и рука вдруг отказалась соответствовать размеру браслета, она стояла, рассматривая попавшую в ловушку ладонь.
— Да что это с вами, госсссподи, — всплеснула руками Галя, сделавшись мгновенно похожей на курицу Рябу, — давайте-ка сюда!
Галя подошла к делу серьезно, как она привыкла справлять все свои дела, она прижала Кристину коленкой к столу, и стала хищно нацеливаться на эмалевое кольцо, растопырив пальцы подобно цанговому механизму.
— Разрешите, — сказал молодой человек с ровным пробором. Он стоял рядом, оказывается. Кристина отодвинула молодую, сильную Галю с легкостью, и подала ему руку, как для поцелуя. Он не поцеловал руки, но мгновенно снял браслет и положил на край стола, задев кофейную чашку. Чашка звякнула, или это звякнуло блюдце, из Кристининого рта узкой струйкой слюны потянулось нетерпение.
Молодой человек отошел. Кристина утерла рот. Ей казалось, что под шеей наружу торчит кусок, допустим, ребра. Хорошо, что у пиджака небольшой округлый вырез, и это пока не бросается в глаза.
— Галя, — откашлялась Кристина, и при каждом отдельном элементе кашля на ее щеках выступало по красному пятну, — мы едем в «Вечную жизнь». Сейчас.
Галя быстро кивнула и вышла, избегая смотреть на свою начальницу, и все-таки удерживая перед глазами и в памяти ее искаженное красное лицо, будто бы с натянутой поверх латексной маской для хеллоуина. Галя хорошо помнила случаи, когда Кристина примеривала такую маску. Галя спешила, Галя нашла задремавшего водителя и больно ущипнула его локоть.
— Скорее, ты, баран, — сказала холодно и зло, — рабочий день в разгаре.
Водитель глотнул и рывком поднялся, растирая глаза кулаком, как ребенок.